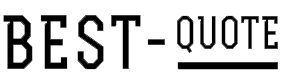Цитаты про Диккенса
 … большинство пишущих беременны всего одной-двумя книгами, а все дальнейшее — это профессиональное надувательство, коим непростительно злоупотребили гениальнейшие мастера – Диккенс и даже Бальзак.
Гораздо лучше было бы не читать Ахматову, а попить с ней чаю. Лучше было бы посидеть у камина с Диккенсом, чем глотать его книги. Но нет такой возможности, и остаются книги — как руки, протянутые из вечности для рукопожатия.
… большинство пишущих беременны всего одной-двумя книгами, а все дальнейшее — это профессиональное надувательство, коим непростительно злоупотребили гениальнейшие мастера – Диккенс и даже Бальзак.
Гораздо лучше было бы не читать Ахматову, а попить с ней чаю. Лучше было бы посидеть у камина с Диккенсом, чем глотать его книги. Но нет такой возможности, и остаются книги — как руки, протянутые из вечности для рукопожатия.
Андрей Ткаче
— Ты пытался когда-нибудь читать классиков по второму разу? Боже мой, все эти старые ***уны типа Харди, Толстого, Голсуорси — они же просто невыносимы. Им сорок страниц надо, чтобы описать, как кто-то где-то пернул. А знаешь, чем они берут? Они гипнотизируют читателя. Просто берут его за яйца. Представь, ни ТВ, ни радио, ни кино. Ни путешествий, если, конечно, ты не хочешь иметь после этих дилижансов распухшую жопу, подпрыгивая на каждой кочке. В Англии даже палку поставить толком нельзя было. Может быть, поэтому во Франции писатели были более дисциплинированными. Французы-то хотя бы трахались, не то что эти мудаки в своей викторианской Англии. Теперь скажи мне, какого хрена парень, у которого есть телевизор и дом на берегу моря, будет читать Пруста?
— Читать Пруста я никогда не мог, поэтому я кивнул. Но читал всех остальных, и мне ни телевизор, ни дом на берегу не смогли бы их заменить.
Осано продолжал:
— Возьмём «Анну Каренину», они называют это шедевром. Это же параша. Образованный парень из высшего общества снизошёл до женщины. Он никогда тебе не показывает, что эта баба на самом деле чувствует или думает. Просто дает нам стандартный взгляд на вещи, характерный для того времени и места. А потом он на протяжении трехсот страниц рассказывает, как нужно вести фермерское хозяйство в России. Он это всовывает туда, как будто кому-то это жутко интересно. А кому, скажи, есть дело до этого хера Вронского с его душой? Бог ты мой, даже не знаю, кто хуже — русские или англичане. А этот гондон Диккенс или Троллоп, для них же пятьсот страниц написать, плевое дело. Они садились писать, когда им хотелось отдохнуть после работы в саду. Французы хотя бы писали коротко. А как тебе этот мудила Бальзак? Бросаю вызов! Любому, кто сможет сегодня его прочесть!
Он глотнул виски и вздохнул.
— Никто из них не умел пользоваться языком. Никто, кроме Флобера, но он не настолько велик. Да и американцы не намного лучше. Драйзер, бля, даже не в курсе, что обозначают слова. Он безграмотен, я тебе точно говорю. Это вонючий абориген, бля. Еще девятьсот страниц занудства. Никого из них сегодня не издали бы, а если бы издали, критики сожрали бы их вместе с дерьмом. Но ведь эти парни прославились! Никакой конкуренции…
Я видел Чарльза Диккенса со спущенными штанами в деревенском нужнике без двери, когда он хнычущим голосом требовал бумажку, чтобы подтереть задницу, а потому вам придется простить меня, если такой образ останется для меня более достоверным, чем образ «величайшего писателя всех времен и народов».

О, высокие чувства матери! Ваша тень, даже слабый ваш отблеск делает сердце чистым и приближает людей к ангелам. Чарльз Диккенс
Я попытался читать Диккенса после Твиттера и, кажется, потянул мышцу в мозгу.
Выбросьте телек, нету в нем толку,
Повесьте на стенку книжную полку,
И по прошествии нескольких дней
Вы не узнаете ваших детей —
Радостный взгляд и смеющийся рот,
Их за собой позовет Вальтер Скотт.
Задумчивый Диккенс, веселый Родари,
Мудрый Сервантес им счастье подарит.
Бэмби проводит в сказочный лес,
Алиса поведает массу чудес,
И обязательно ночью приснится
Неуловимая Синяя Птица.
— Диккенс ему нравится.
— Диккенс дает надежду. Даже в его самых печальных книгах нет безысходности.
Мы любим не меньше кого другого, чтобы в повестях изображалась общественная жизнь; но ведь надобно же понимать, что не всякая поэтическая идея допускает внесение общественных вопросов в произведение; не должно забывать, что первый закон художественности — единство произведения, и что потому, изображая «Детство», надобно изображать именно детство, а не что-либо другое, не общественные вопросы, не военные сцены, не Петра Великого и не Фауста, не Индиану и не Рудина, а дитя с его чувствами и понятиями. И люди, предъявляющие столь узкие требования, говорят о свободе творчества! Удивительно, как не ищут они в «Илиаде» — Макбета, в Вальтере Скотте — Диккенса, в Пушкине — Гоголя!

… большинство пишущих беременны всего одной-двумя книгами, а все дальнейшее — это профессиональное надувательство, коим непростительно злоупотребили гениальнейшие мастера – Диккенс и даже Бальзак.
Гораздо лучше было бы не читать Ахматову, а попить с ней чаю. Лучше было бы посидеть у камина с Диккенсом, чем глотать его книги. Но нет такой возможности, и остаются книги — как руки, протянутые из вечности для рукопожатия.
Андрей Ткаче
Андрей Ткаче
— Ты пытался когда-нибудь читать классиков по второму разу? Боже мой, все эти старые ***уны типа Харди, Толстого, Голсуорси — они же просто невыносимы. Им сорок страниц надо, чтобы описать, как кто-то где-то пернул. А знаешь, чем они берут? Они гипнотизируют читателя. Просто берут его за яйца. Представь, ни ТВ, ни радио, ни кино. Ни путешествий, если, конечно, ты не хочешь иметь после этих дилижансов распухшую жопу, подпрыгивая на каждой кочке. В Англии даже палку поставить толком нельзя было. Может быть, поэтому во Франции писатели были более дисциплинированными. Французы-то хотя бы трахались, не то что эти мудаки в своей викторианской Англии. Теперь скажи мне, какого хрена парень, у которого есть телевизор и дом на берегу моря, будет читать Пруста?
— Читать Пруста я никогда не мог, поэтому я кивнул. Но читал всех остальных, и мне ни телевизор, ни дом на берегу не смогли бы их заменить.
Осано продолжал:
— Возьмём «Анну Каренину», они называют это шедевром. Это же параша. Образованный парень из высшего общества снизошёл до женщины. Он никогда тебе не показывает, что эта баба на самом деле чувствует или думает. Просто дает нам стандартный взгляд на вещи, характерный для того времени и места. А потом он на протяжении трехсот страниц рассказывает, как нужно вести фермерское хозяйство в России. Он это всовывает туда, как будто кому-то это жутко интересно. А кому, скажи, есть дело до этого хера Вронского с его душой? Бог ты мой, даже не знаю, кто хуже — русские или англичане. А этот гондон Диккенс или Троллоп, для них же пятьсот страниц написать, плевое дело. Они садились писать, когда им хотелось отдохнуть после работы в саду. Французы хотя бы писали коротко. А как тебе этот мудила Бальзак? Бросаю вызов! Любому, кто сможет сегодня его прочесть!
Он глотнул виски и вздохнул.
— Никто из них не умел пользоваться языком. Никто, кроме Флобера, но он не настолько велик. Да и американцы не намного лучше. Драйзер, бля, даже не в курсе, что обозначают слова. Он безграмотен, я тебе точно говорю. Это вонючий абориген, бля. Еще девятьсот страниц занудства. Никого из них сегодня не издали бы, а если бы издали, критики сожрали бы их вместе с дерьмом. Но ведь эти парни прославились! Никакой конкуренции…
— Читать Пруста я никогда не мог, поэтому я кивнул. Но читал всех остальных, и мне ни телевизор, ни дом на берегу не смогли бы их заменить.
Осано продолжал:
— Возьмём «Анну Каренину», они называют это шедевром. Это же параша. Образованный парень из высшего общества снизошёл до женщины. Он никогда тебе не показывает, что эта баба на самом деле чувствует или думает. Просто дает нам стандартный взгляд на вещи, характерный для того времени и места. А потом он на протяжении трехсот страниц рассказывает, как нужно вести фермерское хозяйство в России. Он это всовывает туда, как будто кому-то это жутко интересно. А кому, скажи, есть дело до этого хера Вронского с его душой? Бог ты мой, даже не знаю, кто хуже — русские или англичане. А этот гондон Диккенс или Троллоп, для них же пятьсот страниц написать, плевое дело. Они садились писать, когда им хотелось отдохнуть после работы в саду. Французы хотя бы писали коротко. А как тебе этот мудила Бальзак? Бросаю вызов! Любому, кто сможет сегодня его прочесть!
Он глотнул виски и вздохнул.
— Никто из них не умел пользоваться языком. Никто, кроме Флобера, но он не настолько велик. Да и американцы не намного лучше. Драйзер, бля, даже не в курсе, что обозначают слова. Он безграмотен, я тебе точно говорю. Это вонючий абориген, бля. Еще девятьсот страниц занудства. Никого из них сегодня не издали бы, а если бы издали, критики сожрали бы их вместе с дерьмом. Но ведь эти парни прославились! Никакой конкуренции…
Я видел Чарльза Диккенса со спущенными штанами в деревенском нужнике без двери, когда он хнычущим голосом требовал бумажку, чтобы подтереть задницу, а потому вам придется простить меня, если такой образ останется для меня более достоверным, чем образ «величайшего писателя всех времен и народов».

О, высокие чувства матери! Ваша тень, даже слабый ваш отблеск делает сердце чистым и приближает людей к ангелам. Чарльз Диккенс
Я попытался читать Диккенса после Твиттера и, кажется, потянул мышцу в мозгу.
Выбросьте телек, нету в нем толку,
Повесьте на стенку книжную полку,
И по прошествии нескольких дней
Вы не узнаете ваших детей —
Радостный взгляд и смеющийся рот,
Их за собой позовет Вальтер Скотт.
Задумчивый Диккенс, веселый Родари,
Мудрый Сервантес им счастье подарит.
Бэмби проводит в сказочный лес,
Алиса поведает массу чудес,
И обязательно ночью приснится
Неуловимая Синяя Птица.
Повесьте на стенку книжную полку,
И по прошествии нескольких дней
Вы не узнаете ваших детей —
Радостный взгляд и смеющийся рот,
Их за собой позовет Вальтер Скотт.
Задумчивый Диккенс, веселый Родари,
Мудрый Сервантес им счастье подарит.
Бэмби проводит в сказочный лес,
Алиса поведает массу чудес,
И обязательно ночью приснится
Неуловимая Синяя Птица.
— Диккенс ему нравится.
— Диккенс дает надежду. Даже в его самых печальных книгах нет безысходности.
— Диккенс дает надежду. Даже в его самых печальных книгах нет безысходности.
Мы любим не меньше кого другого, чтобы в повестях изображалась общественная жизнь; но ведь надобно же понимать, что не всякая поэтическая идея допускает внесение общественных вопросов в произведение; не должно забывать, что первый закон художественности — единство произведения, и что потому, изображая «Детство», надобно изображать именно детство, а не что-либо другое, не общественные вопросы, не военные сцены, не Петра Великого и не Фауста, не Индиану и не Рудина, а дитя с его чувствами и понятиями. И люди, предъявляющие столь узкие требования, говорят о свободе творчества! Удивительно, как не ищут они в «Илиаде» — Макбета, в Вальтере Скотте — Диккенса, в Пушкине — Гоголя!