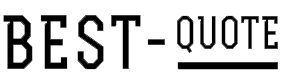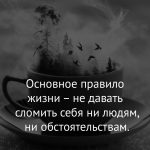Цитаты про брюхо
 Крики продолжаются. Это не люди, люди не могут так страшно кричать.
Крики продолжаются. Это не люди, люди не могут так страшно кричать.
Кат говорит:
— Раненые лошади.Я еще никогда не слыхал, чтобы лошади кричали, и мне что-то не верится. Это стонет сам многострадальный мир, в этих стонах слышатся все муки живой плоти, жгучая, ужасающая боль. Мы побледнели. Детеринг встает во весь рост:
— Изверги, живодеры! Да пристрелите же их!<…>
… Мы смутно видим темный клубок — группу санитаров с носилками и еще какие-то черные большие движущиеся комья. Это раненые лошади. Но не все. Некоторые носятся еще дальше впереди, валятся на землю и снова мчатся галопом. У одной разорвано брюхо, из него длинным жгутом свисают кишки. Лошадь запутывается в них и падает, но снова встает на ноги. <…> Солдат бежит к лошади и приканчивает ее выстрелом. Медленно, покорно она опускается на землю. Мы отнимаем ладони от ушей. Крик умолк. Лишь один протяжный замирающий вздох еще дрожит в воздухе. Потом он снова подходит к нам. Он говорит взволнованно, его голос звучит почти торжественно:
— Самая величайшая подлость — это гнать на войну животных, вот что я вам скажу!
Собачья туша в переулке по утру, след шин на разодранном брюхе. Этот город боится меня. Я видел его истинное лицо. Улицы — продолжение сточных канав, а канавы заполнены кровью, и, когда стоки будут окончательно забиты, вся эта мразь начнёт тонуть, когда скопившаяся грязь похоти и убийств вспенится до пояса, все шлюхи и политиканы посмотрят наверх и возопят: «СПАСИ НАС!» Ну, а я прошепчу… «НЕТ!»(Однажды мир станет на колени и будет просить о пощаде, а в ответ только шепот — нет…)
Выбери жизнь. Выбери работу. Выбери карьеру. Выбери семью. Выбери телевизор с большим экраном. Выбери стиральную машину, музыкальный центр, автомобиль и электрический консервный нож.
Выбери здоровый желудок, зубы и медицинскую страховку. Выбери недвижимость и аккуратно выплачивай взносы. Выбери свой первый дом. Выбери друзей. Выбери курорты и шикарные чемоданы. Выбери костюм-тройку в самой лучшей фирме из самой дорогой материи.
В свой выходной выбери диван, чтобы развалиться и смотреть отупляющее шоу. Набивай брюхо всякой всячиной.
Выбери загнивание, в конце концов, и со стыдом вспомни подонков, которых ты заложил, чтобы выбраться самому.
Выбери своё будущее. Выбери жизнь.Но зачем мне всё это? Я не стал выбирать жизнь, я выбрал кое-что другое. Почему? Да ни почему. Какие могут быть «почему», когда есть героин.
Я ободранный кот,
Я повешен шпаной на заборе.
Ну что ж, раз у них такая игра —
Плевать! Ведь больно мне было
Только вчера…Шершавый забор —
Не привыкать.
Веревка на шее — тоже мура.
Я мертв, а больно мне было
Только вчера.Вон тот мужик,
Что качал головой,
Еще вчера пинал мне в брюхо ногой.
Сегодня прозрел,
Что ж, пожалуй, пора..
Прощаю, ведь больно мне было
Только вчера.
Поверить во что-то – значит испытать это. Сытое брюхо не поверит в существование голода.
Набив брюхо, хорошо вздремнуть, но разве заснешь после половинки паршивого, дешевого завтрака!
Шесть зверей рвутся в мир, они знаменуют шесть ликов зла. … Голод, Мор, Жадность, Зависть, Страх, Подлость — таковы древние имена волков. Голод — самый тощий и клыкастый, у Мора бешеные глаза и пена каплет с языка, Жадность тянет когти к добыче, Зависть фальшиво улыбается, Страх дыбит загривок, Подлость крадётся, низко припадая на брюхо и пряча клыки.
Кто трудится только для себя, уподобляется скоту, набивающему брюхо. Достойный трудится для человечества
Замечу со вздохом, что брюхо — есть крест, который носишь всю жизнь.
 Цитаты про понедельник
Цитаты про понедельник Цитаты про вино
Цитаты про вино Цитаты про жену
Цитаты про жену Цитаты про прошлое
Цитаты про прошлое Цитаты про судьбу
Цитаты про судьбу Цитаты про настроение
Цитаты про настроение
Сколько можно наращивать панцирь? Не подпускать к себе близко людей, как будто боишься… Чего? А ведь и впрямь боишься, крокодилище. Боишься, что они поймут — у тебя под чешуйчатой броней мягкое брюхо, как у всех. И тебе тоже можно сделать больно. Еще как.

У меня был родственник, который учил тригонометрию, пока у него не обвисли усы, а когда он всё выучил, явилась какая-то морра и съела его. Да, и после этого он лежал в морровом брюхе, такой умненький.
Помочь, значит? Я расскажу тебе одну сказочку. Она начинается в пять утра, когда ты перед работой накручиваешь свои волосики на бигуди, меня будит странный звук. Это коту вспарывают брюхо ножом? Неет, это мой сынуля. Он хочет есть. А в подгузниках у него столько добра, что я подумываю нанять отдельного конюха. Но я иду и выгребаю это сам, потому что я люблю этого парня. Ты ж меня знаешь, я люблю делать добрые дела! Потом я мчусь в клинику, где на меня валятся особо умные коллеги вроде тебя и пациенты, которых столько, что по всем законам физики их столько и быть не может. Платят мне как среднему дворнику, работаю я всего по сорок часов в сутки. Так что, в принципе, мне повезло. Потом я возвращаюсь домой. Там меня встречает слабый запах детской блевотины, хотя раньше дом пах… да ничем. Ничем, ничем, ничем! Раньше ничем он не пах! И всё, чего мне хочется, перед тем как запрячься в эту упряжку заново, это сесть на диванчик, взять пиво, включить спортивный канал, а если я не особенно вспотел на работе, сунуть руку в штаны и почесать яйца. Но, увы, для Джордан это не считается почему-то домашней работой и разделением семейного труда. А теперь давай, супер-герой, советуй!
— К чему же богачам столько денег? — удивился Незнайка. — Разве богач может несколько миллионов проесть?
— «Проесть»! — фыркнул Козлик. — Если бы они только ели! Богач ведь насытит брюхо, а потом начинает насыщать свое тщеславие.
— Это какое тщеславие? — не понял Незнайка.
— Ну это когда хочется другим пыль в нос пустить.
Что такое душа? Смогу ли я увидеть её, вспоров тебе брюхо? Смогу ли я увидеть её, раскроив тебе череп?
В тебе пляшет нерожденная вселенная. Я касаюсь ладонью твоей груди, я чувствую ее. В тебе танцует предельно обнаженный, яростный мир. Он дышит в такт моему сердцебиению, но… Мое сердце — это хаотичность пульса, нервная аритмия жизни, больные судороги стареющего неба. Мир в тебе безумен. Мир в тебе принадлежит мне. Мир в тебе дрожит и прогибается под моей рукой, и линия горизонта рвется. Я смотрю в твои глаза. Сейчас в тебе восходит солнце. И, возможно, я тысячу раз не прав, когда тащу тебя за руку на крышу, где тяжелые звезды задевают мурчащим брюхом торчащие тут и там антенны. Когда веду тебя дышать дорогами, по которым люди ходили пешком еще тысячи лет до нас. Когда довожу скорость дней до предела, превосходя предел, чтобы отчаянно визжали тормоза настоящего. Когда закрываю глаза рукой и веду на свет, разрывая скуку каждым шагом. Когда слизываю с твоих губ этот монотонный плач, застрявший в апатии тишины. Когда сметаю со стола эти опостылевшие кастрюльки и мисочки, эту утварь бытовухи, чтобы целовать в горло, чтобы превратить пошловатость секса в инструмент созидания, чтобы вскрыть нарыв усталости и сотворить из тела новую форму чувственности и страсти. Когда я краду тебя из душного офиса, чтобы сбежать из города и увидеть, как тысячи птиц поднимаются с земли. Возможно, я не прав, возможно, в этой размеренной каждодневности тебе тепло и уютно, а рядом со мной — бросает то в жар, то в холод. Возможно, это так. Но в тебе пляшет, безумствует и хохочет вселенная. Я чувствую ее. А это значит, что настало время стать для нее рождением. Как всегда, не уточняя цены. И завтра, когда ты проснешься, мир станет тесен.
Жизнь жестока, бессмысленна и, в сущности, бесконечно унизительна. Все её красы, наслаждения и соблазны существуют лишь для того, чтобы человек разнежился, улегся на спину и принялся доверчиво болтать всеми четырьмя лапами, подставив жизни беззащитное брюхо. Тут-то она своего не упустит — ударит так, что с визгом понесешься, поджав хвост.

По дороге лесом я объезжал воза с сеном. Мужики везли на мое гумно скошенное, высушенное и собранное ими сено. И им не только не казалось странно отвезти ко мне и уложить хорошо мне в стога половину того сена, которое] вырастил Бог и за которым они с своими бабами и с недоедающими детьми от зари до зари потели дней 15; но они даже с особенной радостью везли это сено, зная, что после этого им можно будет свезти и свое. И, судя по выражению их лиц и по тому, как они здоровались со мной, видно было, что им нисколько не противно смотреть на мою гладкую, сытую лошадь и на мое толстое брюхо, но что они даже с удовольствием встречают меня. И мне тогда было это не стыдно, а от их добродушных приветов стало весело.
На пустое брюхо всякая ноша кажется тяжела.
Пословица, которую произносит Оси
— … Ты знаешь, что почти в каждой молитве начинается одно и то же?! Я, раб Божий, душу раба твоего, раб, раб, раб…
— Это как? — удивился элвар. — Вы верите, что вы — рабы своего бога?
— Не все. Только самые тупые. Я вот не верю, — огрызнулась я.
— Так ты уже и не этого мира.
— Да и многие другие не верят. Твердят, как попугаи! А вдуматься — куда там! Наша вера… их вера вообще построена с чего? Бог создал мир. Потом создал животных. И под конец…
— Набравшись опыта и набив шишек…
— Людей. — не дала сбить себя я. — То есть он их создал. Сделал. Он — творец. Но ведь и мы детей делаем! Только вот наши дети нам — не рабы! Они такие же, как мы! А мы созданы по образу и подобию Божьему! Да даже если просто по образу — что с того!? Работай, чтобы стать его подобием! Работай над собой, а не пресмыкайся и не ползай на брюхе! Этого все равно никто не оценит! И Он — меньше всего! Вы бы как оценили своего ребенка, который вопит: «Папа, я твой раб, я был неправ, но я исправлюсь, а за это хочу денюжку и клевую телку! И геморрой мне полечи!»? Вот я бы — пинком по геморрою! А священники полагают, что все это — в порядке и в норме!
Еще мальчишка, «Отче наша» не знаешь, а уж обмериваешь; а как разопрёт тебе брюхо да набьёшь себе карман, так и заважничал! Фу ты, какая невидаль! Оттого, что ты шестнадцать самоваров выдуешь в день, так оттого и важничаешь? Да я плевать на твою голову и на твою важность!
Легкость в мыслях необыкновенная.
— Мы же договорились — мешок золота за каждого убитого дракона.
— Ваша честь имеет цену, сэр рыцарь?
— Она имеет расходы. И ею не набьешь брюхо и не подкуешь коня.
Надежда женщина мелкая, складная и миловидная, когда она порожня. Несмотря на то, что всегда я видал ее в грязной черной рубахе и в одной и той же отрепанной кубовой куртушечке, она, когда порожня, не жалка, а баба как баба, но на брюхатую на нее жалко смотреть. Брюхо у нее большое, и видно, что она самка хорошая. Она ходит легко, бережет свое брюхо. Всё питанье, все силы организма идут, очевидно, туда, в брюхо, зато уж всё остальное платится за это. Особенно лицо. Лицо худое, вытянутое, с морщинами продольными около рта и желтое, как мокрый песок. В губах тоже что-то необыкновенное, как будто губы усохли, а зубы выросли, как у белки, длинные, острые, узкие. Что-то смертно-страшное и жалкое было и прежде. Но теперь и глаз нет. Глаза мутны, глядят и не видят.
Не ноги управляют брюхом, а брюхо ногами.
Вена — город музыки! Лишь то, что оправдывало себя до сих пор, оправдает себя и в будущем. С белого, жирного брюха Вены, набитого культурой, с треском отлетают пуговицы, и брюхо это из года в год раздувается всё чудовищней, как труп не выловленного из воды утопленника
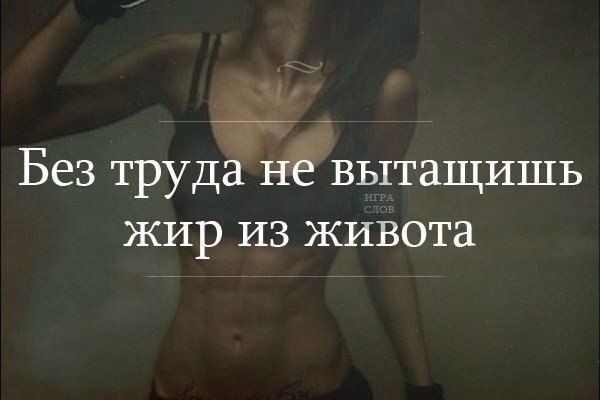
Проще насытить брюхо обжоры, чем его глаза.
И вот пять лет назад сюда пришли люди и построили этот маяк. Поставили своего Ревуна, и он ревет, ревет над Пучиной, куда, представь себе, ты ушел, чтобы спать и грезить о мире, где были тысячи тебе подобных; теперь же ты одинок, совсем одинок в мире, который не для тебя, в котором нужно прятаться. А голос Ревуна то зовет, то смолкнет, то зовет, то смолкнет, и ты просыпаешься на илистом дне Пучины, и глаза открываются, будто линзы огромного фотоаппарата, и ты поднимаешься медленно-медленно, потому что на твоих плечах груз океана, огромная тяжесть. Но зов Ревуна, слабый и такой знакомый, летит за тысячу миль, пронизывает толщу воды, и топка в твоем брюхе развивает пары, и ты плывешь вверх, плывешь медленно-медленно. Пожираешь косяки трески и мерлана, полчища медуз и идешь выше, выше всю осень, месяц за месяцем, сентябрь, когда начинаются туманы, октябрь, когда туманы еще гуще, и Ревун все зовет, и в конце ноября, после того как ты изо дня в день приноравливался к давлению, поднимаясь в час на несколько футов, ты у поверхности, и ты жив. Поневоле всплываешь медленно: если подняться сразу, тебя разорвет. Поэтому уходит три месяца на то, чтобы всплыть, и еще столько же дней пути в холодной воде отделяет тебя от маяка. И вот, наконец, ты здесь — вон там, в ночи, Джонни, — самое огромное чудовище, какое знала Земля. А вот и маяк, что зовет тебя, такая же длинная шея торчит из воды и как будто такое же тело, но главное — точно такой же голос, как у тебя. Понимаешь, Джонни, теперь понимаешь?
Какая между нами связь? Каких бы высот ни достигал мой дух, готовясь к Деянию, вечно заброшенный и одинокий желудок все равно потребует своего. Собственные внутренности казались мне облезлым, прожорливым псом, не желающим слушаться хозяина. О, как отчетливо я осознавал: душа может сколько угодно стремиться к возвышенному, но эти тупые и скучные органы, которыми набито мое тело, будут стоять на своем и мечтать о пошлом и обыденном…. Душа могла грезить о неземной красоте алмазов, но брюхо упрямо требовало теста.
Не позволяй всякой ерунде портить тебе аппетит! Проблемы приходят и уходят, а твое брюхо остается с тобой. Его нужды — это святое.
Одно скучно – мать у меня такая сердобольная: коли брюха не отрастил да не ешь десять раз в день, она и убивается. Ну, отец ничего, тот сам был везде, и в сите и в решете.
Человек создан сам устроивать себя и даже менять свою природу, а он отрастил брюхо да и думает, что природа послала ему эту ношу!

Крики продолжаются. Это не люди, люди не могут так страшно кричать.
Кат говорит:
— Раненые лошади.Я еще никогда не слыхал, чтобы лошади кричали, и мне что-то не верится. Это стонет сам многострадальный мир, в этих стонах слышатся все муки живой плоти, жгучая, ужасающая боль. Мы побледнели. Детеринг встает во весь рост:
— Изверги, живодеры! Да пристрелите же их!<…>
… Мы смутно видим темный клубок — группу санитаров с носилками и еще какие-то черные большие движущиеся комья. Это раненые лошади. Но не все. Некоторые носятся еще дальше впереди, валятся на землю и снова мчатся галопом. У одной разорвано брюхо, из него длинным жгутом свисают кишки. Лошадь запутывается в них и падает, но снова встает на ноги. <…> Солдат бежит к лошади и приканчивает ее выстрелом. Медленно, покорно она опускается на землю. Мы отнимаем ладони от ушей. Крик умолк. Лишь один протяжный замирающий вздох еще дрожит в воздухе. Потом он снова подходит к нам. Он говорит взволнованно, его голос звучит почти торжественно:
— Самая величайшая подлость — это гнать на войну животных, вот что я вам скажу!
Кат говорит:
— Раненые лошади.Я еще никогда не слыхал, чтобы лошади кричали, и мне что-то не верится. Это стонет сам многострадальный мир, в этих стонах слышатся все муки живой плоти, жгучая, ужасающая боль. Мы побледнели. Детеринг встает во весь рост:
— Изверги, живодеры! Да пристрелите же их!<…>
… Мы смутно видим темный клубок — группу санитаров с носилками и еще какие-то черные большие движущиеся комья. Это раненые лошади. Но не все. Некоторые носятся еще дальше впереди, валятся на землю и снова мчатся галопом. У одной разорвано брюхо, из него длинным жгутом свисают кишки. Лошадь запутывается в них и падает, но снова встает на ноги. <…> Солдат бежит к лошади и приканчивает ее выстрелом. Медленно, покорно она опускается на землю. Мы отнимаем ладони от ушей. Крик умолк. Лишь один протяжный замирающий вздох еще дрожит в воздухе. Потом он снова подходит к нам. Он говорит взволнованно, его голос звучит почти торжественно:
— Самая величайшая подлость — это гнать на войну животных, вот что я вам скажу!
Собачья туша в переулке по утру, след шин на разодранном брюхе. Этот город боится меня. Я видел его истинное лицо. Улицы — продолжение сточных канав, а канавы заполнены кровью, и, когда стоки будут окончательно забиты, вся эта мразь начнёт тонуть, когда скопившаяся грязь похоти и убийств вспенится до пояса, все шлюхи и политиканы посмотрят наверх и возопят: «СПАСИ НАС!» Ну, а я прошепчу… «НЕТ!»(Однажды мир станет на колени и будет просить о пощаде, а в ответ только шепот — нет…)
Выбери жизнь. Выбери работу. Выбери карьеру. Выбери семью. Выбери телевизор с большим экраном. Выбери стиральную машину, музыкальный центр, автомобиль и электрический консервный нож.
Выбери здоровый желудок, зубы и медицинскую страховку. Выбери недвижимость и аккуратно выплачивай взносы. Выбери свой первый дом. Выбери друзей. Выбери курорты и шикарные чемоданы. Выбери костюм-тройку в самой лучшей фирме из самой дорогой материи.
В свой выходной выбери диван, чтобы развалиться и смотреть отупляющее шоу. Набивай брюхо всякой всячиной.
Выбери загнивание, в конце концов, и со стыдом вспомни подонков, которых ты заложил, чтобы выбраться самому.
Выбери своё будущее. Выбери жизнь.Но зачем мне всё это? Я не стал выбирать жизнь, я выбрал кое-что другое. Почему? Да ни почему. Какие могут быть «почему», когда есть героин.
Выбери здоровый желудок, зубы и медицинскую страховку. Выбери недвижимость и аккуратно выплачивай взносы. Выбери свой первый дом. Выбери друзей. Выбери курорты и шикарные чемоданы. Выбери костюм-тройку в самой лучшей фирме из самой дорогой материи.
В свой выходной выбери диван, чтобы развалиться и смотреть отупляющее шоу. Набивай брюхо всякой всячиной.
Выбери загнивание, в конце концов, и со стыдом вспомни подонков, которых ты заложил, чтобы выбраться самому.
Выбери своё будущее. Выбери жизнь.Но зачем мне всё это? Я не стал выбирать жизнь, я выбрал кое-что другое. Почему? Да ни почему. Какие могут быть «почему», когда есть героин.
Я ободранный кот,
Я повешен шпаной на заборе.
Ну что ж, раз у них такая игра —
Плевать! Ведь больно мне было
Только вчера…Шершавый забор —
Не привыкать.
Веревка на шее — тоже мура.
Я мертв, а больно мне было
Только вчера.Вон тот мужик,
Что качал головой,
Еще вчера пинал мне в брюхо ногой.
Сегодня прозрел,
Что ж, пожалуй, пора..
Прощаю, ведь больно мне было
Только вчера.
Я повешен шпаной на заборе.
Ну что ж, раз у них такая игра —
Плевать! Ведь больно мне было
Только вчера…Шершавый забор —
Не привыкать.
Веревка на шее — тоже мура.
Я мертв, а больно мне было
Только вчера.Вон тот мужик,
Что качал головой,
Еще вчера пинал мне в брюхо ногой.
Сегодня прозрел,
Что ж, пожалуй, пора..
Прощаю, ведь больно мне было
Только вчера.
Поверить во что-то – значит испытать это. Сытое брюхо не поверит в существование голода.
Набив брюхо, хорошо вздремнуть, но разве заснешь после половинки паршивого, дешевого завтрака!
Шесть зверей рвутся в мир, они знаменуют шесть ликов зла. … Голод, Мор, Жадность, Зависть, Страх, Подлость — таковы древние имена волков. Голод — самый тощий и клыкастый, у Мора бешеные глаза и пена каплет с языка, Жадность тянет когти к добыче, Зависть фальшиво улыбается, Страх дыбит загривок, Подлость крадётся, низко припадая на брюхо и пряча клыки.
Кто трудится только для себя, уподобляется скоту, набивающему брюхо. Достойный трудится для человечества
Замечу со вздохом, что брюхо — есть крест, который носишь всю жизнь.
 Цитаты про понедельник
Цитаты про понедельник Цитаты про вино
Цитаты про вино Цитаты про жену
Цитаты про жену Цитаты про прошлое
Цитаты про прошлое Цитаты про судьбу
Цитаты про судьбу Цитаты про настроение
Цитаты про настроение
Сколько можно наращивать панцирь? Не подпускать к себе близко людей, как будто боишься… Чего? А ведь и впрямь боишься, крокодилище. Боишься, что они поймут — у тебя под чешуйчатой броней мягкое брюхо, как у всех. И тебе тоже можно сделать больно. Еще как.

У меня был родственник, который учил тригонометрию, пока у него не обвисли усы, а когда он всё выучил, явилась какая-то морра и съела его. Да, и после этого он лежал в морровом брюхе, такой умненький.
Помочь, значит? Я расскажу тебе одну сказочку. Она начинается в пять утра, когда ты перед работой накручиваешь свои волосики на бигуди, меня будит странный звук. Это коту вспарывают брюхо ножом? Неет, это мой сынуля. Он хочет есть. А в подгузниках у него столько добра, что я подумываю нанять отдельного конюха. Но я иду и выгребаю это сам, потому что я люблю этого парня. Ты ж меня знаешь, я люблю делать добрые дела! Потом я мчусь в клинику, где на меня валятся особо умные коллеги вроде тебя и пациенты, которых столько, что по всем законам физики их столько и быть не может. Платят мне как среднему дворнику, работаю я всего по сорок часов в сутки. Так что, в принципе, мне повезло. Потом я возвращаюсь домой. Там меня встречает слабый запах детской блевотины, хотя раньше дом пах… да ничем. Ничем, ничем, ничем! Раньше ничем он не пах! И всё, чего мне хочется, перед тем как запрячься в эту упряжку заново, это сесть на диванчик, взять пиво, включить спортивный канал, а если я не особенно вспотел на работе, сунуть руку в штаны и почесать яйца. Но, увы, для Джордан это не считается почему-то домашней работой и разделением семейного труда. А теперь давай, супер-герой, советуй!
— К чему же богачам столько денег? — удивился Незнайка. — Разве богач может несколько миллионов проесть?
— «Проесть»! — фыркнул Козлик. — Если бы они только ели! Богач ведь насытит брюхо, а потом начинает насыщать свое тщеславие.
— Это какое тщеславие? — не понял Незнайка.
— Ну это когда хочется другим пыль в нос пустить.
— «Проесть»! — фыркнул Козлик. — Если бы они только ели! Богач ведь насытит брюхо, а потом начинает насыщать свое тщеславие.
— Это какое тщеславие? — не понял Незнайка.
— Ну это когда хочется другим пыль в нос пустить.
Что такое душа? Смогу ли я увидеть её, вспоров тебе брюхо? Смогу ли я увидеть её, раскроив тебе череп?
В тебе пляшет нерожденная вселенная. Я касаюсь ладонью твоей груди, я чувствую ее. В тебе танцует предельно обнаженный, яростный мир. Он дышит в такт моему сердцебиению, но… Мое сердце — это хаотичность пульса, нервная аритмия жизни, больные судороги стареющего неба. Мир в тебе безумен. Мир в тебе принадлежит мне. Мир в тебе дрожит и прогибается под моей рукой, и линия горизонта рвется. Я смотрю в твои глаза. Сейчас в тебе восходит солнце. И, возможно, я тысячу раз не прав, когда тащу тебя за руку на крышу, где тяжелые звезды задевают мурчащим брюхом торчащие тут и там антенны. Когда веду тебя дышать дорогами, по которым люди ходили пешком еще тысячи лет до нас. Когда довожу скорость дней до предела, превосходя предел, чтобы отчаянно визжали тормоза настоящего. Когда закрываю глаза рукой и веду на свет, разрывая скуку каждым шагом. Когда слизываю с твоих губ этот монотонный плач, застрявший в апатии тишины. Когда сметаю со стола эти опостылевшие кастрюльки и мисочки, эту утварь бытовухи, чтобы целовать в горло, чтобы превратить пошловатость секса в инструмент созидания, чтобы вскрыть нарыв усталости и сотворить из тела новую форму чувственности и страсти. Когда я краду тебя из душного офиса, чтобы сбежать из города и увидеть, как тысячи птиц поднимаются с земли. Возможно, я не прав, возможно, в этой размеренной каждодневности тебе тепло и уютно, а рядом со мной — бросает то в жар, то в холод. Возможно, это так. Но в тебе пляшет, безумствует и хохочет вселенная. Я чувствую ее. А это значит, что настало время стать для нее рождением. Как всегда, не уточняя цены. И завтра, когда ты проснешься, мир станет тесен.
Жизнь жестока, бессмысленна и, в сущности, бесконечно унизительна. Все её красы, наслаждения и соблазны существуют лишь для того, чтобы человек разнежился, улегся на спину и принялся доверчиво болтать всеми четырьмя лапами, подставив жизни беззащитное брюхо. Тут-то она своего не упустит — ударит так, что с визгом понесешься, поджав хвост.

По дороге лесом я объезжал воза с сеном. Мужики везли на мое гумно скошенное, высушенное и собранное ими сено. И им не только не казалось странно отвезти ко мне и уложить хорошо мне в стога половину того сена, которое] вырастил Бог и за которым они с своими бабами и с недоедающими детьми от зари до зари потели дней 15; но они даже с особенной радостью везли это сено, зная, что после этого им можно будет свезти и свое. И, судя по выражению их лиц и по тому, как они здоровались со мной, видно было, что им нисколько не противно смотреть на мою гладкую, сытую лошадь и на мое толстое брюхо, но что они даже с удовольствием встречают меня. И мне тогда было это не стыдно, а от их добродушных приветов стало весело.
На пустое брюхо всякая ноша кажется тяжела.
Пословица, которую произносит Оси
Пословица, которую произносит Оси
— … Ты знаешь, что почти в каждой молитве начинается одно и то же?! Я, раб Божий, душу раба твоего, раб, раб, раб…
— Это как? — удивился элвар. — Вы верите, что вы — рабы своего бога?
— Не все. Только самые тупые. Я вот не верю, — огрызнулась я.
— Так ты уже и не этого мира.
— Да и многие другие не верят. Твердят, как попугаи! А вдуматься — куда там! Наша вера… их вера вообще построена с чего? Бог создал мир. Потом создал животных. И под конец…
— Набравшись опыта и набив шишек…
— Людей. — не дала сбить себя я. — То есть он их создал. Сделал. Он — творец. Но ведь и мы детей делаем! Только вот наши дети нам — не рабы! Они такие же, как мы! А мы созданы по образу и подобию Божьему! Да даже если просто по образу — что с того!? Работай, чтобы стать его подобием! Работай над собой, а не пресмыкайся и не ползай на брюхе! Этого все равно никто не оценит! И Он — меньше всего! Вы бы как оценили своего ребенка, который вопит: «Папа, я твой раб, я был неправ, но я исправлюсь, а за это хочу денюжку и клевую телку! И геморрой мне полечи!»? Вот я бы — пинком по геморрою! А священники полагают, что все это — в порядке и в норме!
— Это как? — удивился элвар. — Вы верите, что вы — рабы своего бога?
— Не все. Только самые тупые. Я вот не верю, — огрызнулась я.
— Так ты уже и не этого мира.
— Да и многие другие не верят. Твердят, как попугаи! А вдуматься — куда там! Наша вера… их вера вообще построена с чего? Бог создал мир. Потом создал животных. И под конец…
— Набравшись опыта и набив шишек…
— Людей. — не дала сбить себя я. — То есть он их создал. Сделал. Он — творец. Но ведь и мы детей делаем! Только вот наши дети нам — не рабы! Они такие же, как мы! А мы созданы по образу и подобию Божьему! Да даже если просто по образу — что с того!? Работай, чтобы стать его подобием! Работай над собой, а не пресмыкайся и не ползай на брюхе! Этого все равно никто не оценит! И Он — меньше всего! Вы бы как оценили своего ребенка, который вопит: «Папа, я твой раб, я был неправ, но я исправлюсь, а за это хочу денюжку и клевую телку! И геморрой мне полечи!»? Вот я бы — пинком по геморрою! А священники полагают, что все это — в порядке и в норме!
Еще мальчишка, «Отче наша» не знаешь, а уж обмериваешь; а как разопрёт тебе брюхо да набьёшь себе карман, так и заважничал! Фу ты, какая невидаль! Оттого, что ты шестнадцать самоваров выдуешь в день, так оттого и важничаешь? Да я плевать на твою голову и на твою важность!
Легкость в мыслях необыкновенная.
Легкость в мыслях необыкновенная.
— Мы же договорились — мешок золота за каждого убитого дракона.
— Ваша честь имеет цену, сэр рыцарь?
— Она имеет расходы. И ею не набьешь брюхо и не подкуешь коня.
— Ваша честь имеет цену, сэр рыцарь?
— Она имеет расходы. И ею не набьешь брюхо и не подкуешь коня.
Надежда женщина мелкая, складная и миловидная, когда она порожня. Несмотря на то, что всегда я видал ее в грязной черной рубахе и в одной и той же отрепанной кубовой куртушечке, она, когда порожня, не жалка, а баба как баба, но на брюхатую на нее жалко смотреть. Брюхо у нее большое, и видно, что она самка хорошая. Она ходит легко, бережет свое брюхо. Всё питанье, все силы организма идут, очевидно, туда, в брюхо, зато уж всё остальное платится за это. Особенно лицо. Лицо худое, вытянутое, с морщинами продольными около рта и желтое, как мокрый песок. В губах тоже что-то необыкновенное, как будто губы усохли, а зубы выросли, как у белки, длинные, острые, узкие. Что-то смертно-страшное и жалкое было и прежде. Но теперь и глаз нет. Глаза мутны, глядят и не видят.
Не ноги управляют брюхом, а брюхо ногами.
Вена — город музыки! Лишь то, что оправдывало себя до сих пор, оправдает себя и в будущем. С белого, жирного брюха Вены, набитого культурой, с треском отлетают пуговицы, и брюхо это из года в год раздувается всё чудовищней, как труп не выловленного из воды утопленника
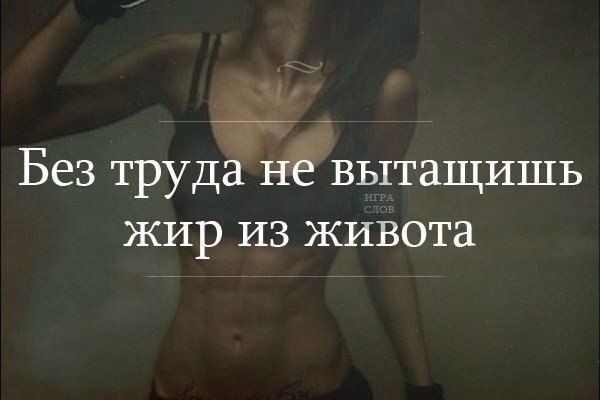
Проще насытить брюхо обжоры, чем его глаза.
И вот пять лет назад сюда пришли люди и построили этот маяк. Поставили своего Ревуна, и он ревет, ревет над Пучиной, куда, представь себе, ты ушел, чтобы спать и грезить о мире, где были тысячи тебе подобных; теперь же ты одинок, совсем одинок в мире, который не для тебя, в котором нужно прятаться. А голос Ревуна то зовет, то смолкнет, то зовет, то смолкнет, и ты просыпаешься на илистом дне Пучины, и глаза открываются, будто линзы огромного фотоаппарата, и ты поднимаешься медленно-медленно, потому что на твоих плечах груз океана, огромная тяжесть. Но зов Ревуна, слабый и такой знакомый, летит за тысячу миль, пронизывает толщу воды, и топка в твоем брюхе развивает пары, и ты плывешь вверх, плывешь медленно-медленно. Пожираешь косяки трески и мерлана, полчища медуз и идешь выше, выше всю осень, месяц за месяцем, сентябрь, когда начинаются туманы, октябрь, когда туманы еще гуще, и Ревун все зовет, и в конце ноября, после того как ты изо дня в день приноравливался к давлению, поднимаясь в час на несколько футов, ты у поверхности, и ты жив. Поневоле всплываешь медленно: если подняться сразу, тебя разорвет. Поэтому уходит три месяца на то, чтобы всплыть, и еще столько же дней пути в холодной воде отделяет тебя от маяка. И вот, наконец, ты здесь — вон там, в ночи, Джонни, — самое огромное чудовище, какое знала Земля. А вот и маяк, что зовет тебя, такая же длинная шея торчит из воды и как будто такое же тело, но главное — точно такой же голос, как у тебя. Понимаешь, Джонни, теперь понимаешь?
Какая между нами связь? Каких бы высот ни достигал мой дух, готовясь к Деянию, вечно заброшенный и одинокий желудок все равно потребует своего. Собственные внутренности казались мне облезлым, прожорливым псом, не желающим слушаться хозяина. О, как отчетливо я осознавал: душа может сколько угодно стремиться к возвышенному, но эти тупые и скучные органы, которыми набито мое тело, будут стоять на своем и мечтать о пошлом и обыденном…. Душа могла грезить о неземной красоте алмазов, но брюхо упрямо требовало теста.
Не позволяй всякой ерунде портить тебе аппетит! Проблемы приходят и уходят, а твое брюхо остается с тобой. Его нужды — это святое.
Одно скучно – мать у меня такая сердобольная: коли брюха не отрастил да не ешь десять раз в день, она и убивается. Ну, отец ничего, тот сам был везде, и в сите и в решете.
Человек создан сам устроивать себя и даже менять свою природу, а он отрастил брюхо да и думает, что природа послала ему эту ношу!