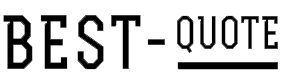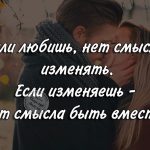Цитаты про брань
 Теперь, утратив жажду брани, Престал платить безумству дани, И, верным счастием богат, Я все забыл, товарищ милый, Все, даже прелести Людмилы»
Почему же шли на смерть, хотя ясно понимали ее неизбежность? Почему же шли, хотя и не хотели? Шли, не просто страшась смерти, а охваченные ужасом, и все же шли! Раздумывать и обосновывать свои поступки тогда не приходилось. Было не до того. Просто вставали и шли, потому что НАДО!
Теперь, утратив жажду брани, Престал платить безумству дани, И, верным счастием богат, Я все забыл, товарищ милый, Все, даже прелести Людмилы»
Почему же шли на смерть, хотя ясно понимали ее неизбежность? Почему же шли, хотя и не хотели? Шли, не просто страшась смерти, а охваченные ужасом, и все же шли! Раздумывать и обосновывать свои поступки тогда не приходилось. Было не до того. Просто вставали и шли, потому что НАДО!
Вежливо выслушивали напутствие политруков — малограмотное переложение дубовых и пустых газетных передовиц — и шли. Вовсе не воодушевленные какими-то идеями или лозунгами, а потому, что НАДО. Так, видимо, ходили умирать и предки наши на Куликовом поле либо под Бородином. Вряд ли размышляли они об исторических перспективах и величии нашего народа… Выйдя на нейтральную полосу, вовсе не кричали «За Родину! За Сталина!», как пишут в романах. Над передовой слышен был хриплый вой и густая матерная брань, пока пули и осколки не затыкали орущие глотки. До Сталина ли было, когда смерть рядом. Откуда же сейчас, в шестидесятые годы, опять возник миф, что победили только благодаря Сталину, под знаменем Сталина? У меня на этот счет нет сомнений. Те, кто победил, либо полегли на поле боя, либо спились, подавленные послевоенными тяготами. Ведь не только война, но и восстановление страны прошло за их счет. Те же из них, кто еще жив, молчат, сломленные.
Остались у власти и сохранили силы другие — те, кто загонял людей в лагеря, те, кто гнал в бессмысленные кровавые атаки на войне. Они действовали именем Сталина, они и сейчас кричат об этом. Не было на передовой: «За Сталина!». Комиссары пытались вбить это в наши головы, но в атаках комиссаров не было. Все это накипь…»
Долину брани объезжая, Он видит множество мечей, Но все легки да слишком малы, А князь красавец был не вялый, Не то, что витязь наших дней
Хозяйка сказала, что хочет фейхоа. Хахаль куда-то побежал, а мы с Халком пошли записывать это слово в не до конца разгаданный сканворд. Значит, прав был Кот, а я ему подзатыльников навешал за нецензурную брань. Неудобно теперь, надо бы извиниться…
Я старался сделать так, чтобы каждый из моих персонажей был похож на человека. Настоящего, живого. В моем первом романе семь героев, от лица которых ведется повествование, в каждом следующем добавлялось еще несколько. Вы видите мир их глазами, а я пробираюсь в голову каждого, чтобы сжиться с ним. Я хотел, чтобы они были разными. Одни благородны и справедливы, другие эгоистичны. Одни умны, другие не очень или даже глупы. Однако все они люди. Я всегда мечтал создать великих персонажей, а они не бывают черными или белыми. В фэнтези довольно часто описывается столкновение добра со злом, и иногда это работает. Однако я в это не верю. Не верю в то, что на поле брани встречаются хорошие и плохие — и хорошие в белом, а злодеи в черном, а еще они уродливые и питаются человеческой плотью…

Каждый умирает в одиночку. Будь ты королем на поле брани или жалким крестьянином, лежащим на смертном ложе в кругу своей семьи, никто не последует за тобой в вечную пустоту.
Я не мог знать заранее, что ты тоже ненормальная,
Ведь наделяли чем-то новым нас эти свидания.
Ты аномалия, оттого и не любовь, а мания
У нас с тобою была, вперемешку с криком и бранью.
Нет более неприятного, жалкого и смешного зрелища в зале суда, чем любовная парочка преступников, набрасывающихся друг на друга с обвинениями, протестами и бранью, не считаясь ни с чем, лишь бы спасти собственную жизнь ценою жизни своего недавнего возлюбленного или возлюбленной.
В присутствии слепого не брани слепое животное.
 Цитаты про красный цвет
Цитаты про красный цвет Цитаты про льва
Цитаты про льва Цитаты про Санкт-Петербург
Цитаты про Санкт-Петербург Цитаты про осень
Цитаты про осень Цитаты про тело
Цитаты про тело Цитаты про кольцо
Цитаты про кольцо
Я знаю, меня ждет жалкий конец. Никто меня не будет хвалить, никто не будет уважать, я получу лишь брань. Люди будут отворачиваться от моих кошмарных останков, зажимать носы от вони. Может, пинком сбросят меня в канаву. Вот и все.
Те, кто погибает на поле брани, в некотором смысле счастливчики. Навсегда молодые. Навсегда прославленные.
Капитал… избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому. Доказательство: контрабанда и торговля рабами.Capital is said … to fly turbulence and strife, and to be timid, which is very true; but this is very incompletely stating the question. Capital eschews no profit, or very small profit, just as Nature was formerly said to abhor a vacuum. With adequate profit, capital is very bold. A certain 10 per cent. will ensure its employment anywhere; 20 per cent. certain will produce eagerness; 50 per cent., positive audacity; 100 per cent. will make it ready to trample on all human laws; 300 per cent., and there is not a crime at which it will scruple, nor a risk it will not run, even to the chance of its owner being hanged. If turbulence and strife will bring a profit, it will freely encourage both. Smuggling and the slave-trade have amply proved all that is here stated.
Ты не сердитый дух в нашей квартире, не захлопнувшаяся дверь, не эхо в переходе, это просто я по тебе соскучился. Ты умерла, тебя нет. Тебе все равно, где тебя закопают. Ты не можешь ничего запретить мне, не можешь ни за что меня отругать. Мне одиноко от этой свободы, мне тоскливо без твоей брани. Но все, что ты можешь сделать мне – не разговаривать со мной.
Я уже не раз замечал, что брань действует как мгновенная анестезия. Боль не то чтобы проходит совсем, но становится вполне терпимой.
На поле брани якобы наиболее опасны идеальный военный гений и абсолютный идиот, с перевесом на стороне идиота, поскольку его поступки уж совершенно невозможно предвидеть.
Смерть павших на поле брани в молодости ощущается тем болезненнее, чем дольше живут их ровесники. Владислав Гжегорчик
Все дети в известном возрасте начинают ругаться, а когда поймут, что бранью никого не удивишь, это проходит само собой.
Всякий родитель должен воздерживаться при детях своих не только от дел, но и от слов, клонящихся к неправосудию и насильству, как то: брани, клятвы, драк, всякой жестокости и тому подобных поступков, и не дозволять и тем, которые окружают детей его, давать им такие дурные примеры.
Возможно, для кого-то мат является нецензурной бранью, но для шахматистов — это хлеб насущный.
Не брани меня, подруга,
Отвлекись от суеты,
Все итак едят друг друга,
А меня ещё и ты.

Наилучшие наставники — это люди, рядом с которыми выходишь на поле брани.
Любой дурак может быть храбрым на поле брани, потому что, если не будешь храбрым, тебя убьют.
– Для того чтобы развязать войну, достаточно желания одной из сторон, о достойный Целитель, – отвечала Эовин. – А от меча могут погибнуть и те, кто никогда не брал его в руки. Неужели ты предпочёл бы, чтобы гондорцы день и ночь собирали травы, пока Чёрный Властелин собирает армии? Да и телесное исцеление не всегда идёт на пользу, а гибель на поле брани – не всегда зло, даже если герой погибает в муках.
Трус, бегущий с поля брани, бросает всё, храбрец остается при своем, а герой успевает подобрать за трусом!
Случалось, в такой вот вечер, какие ему теперь вспоминаются, она вернется без сил с работы (она ходила по домам убирать) и не застанет ни души. Старуха ушла за покупками, дети еще в школе. Тогда она опустится на стул и смутным взглядом растерянно уставится на трещину в полу. Вокруг нее сгущается ночь, и во тьме немота ее полна безысходного уныния. В такие минуты, случись мальчику войти, он едва различит угловатый силуэт, худые, костлявые плечи и застынет на месте: ему страшно. Он уже начинает многое чувствовать. Он только-только начал сознавать, что существует. Но ему трудно плакать перед лицом этой немоты бессловесного животного. Он жалеет мать — значит ли это любить? Она никогда его не ласкала, она этого не умеет. И вот долгие минуты он стоит и смотрит на нее. Он чувствует себя посторонним и оттого понимает её муку. Она его не слышит: она туга на ухо. Сейчас вернётся старуха, и жизнь пойдёт своим чередом: будет круг света от керосиновой лампы, клеенка на столе, крики, брань. А пока — тишина, значит, время остановилось, длится нескончаемое мгновение. Мальчику кажется — что-то встрепенулось внутри, какое-то смутное чувство, наверно, это любовь к матери. Что ж, так и надо, ведь, в конце концов, она ему мать.
Вы выходите из машины, тот, с кем вы столкнулись, тоже выходит, вы встречаетесь там, где столкнулись ваши машины, вы глядите на них, вы качаете головой. Иногда — хотя, если честно, достаточно часто — эта стадия общения сопровождается забористой нецензурной бранью, каждый винит другого (зачастую не разбираясь, кто действительно виноват), каждый делает вывод об умении другого водить машину, каждый вопит, что дело должно пойти в суд. Но Ральфу всегда казалось, что на самом деле все эти люди хотят сказать только одно: Слушай, дурак, ты напугал меня до смерти.
Киносюжет своеобразен тем, что за ним всегда бывает страшная гонка. Сюжет этот никогда не рождается, скажем, в такой обстановке: сидя у камина, один собеседник говорит другому:
— Знаете что? Если вам когда-нибудь придет в голову хороший сюжет для фильма, напишите, и мы потолкуем об этом.
Это не соответствовало бы специфике кино. Специфика кино повелевает гоняться за киносюжетом сломя голову. Сюжет нужен завтра. Он нужен сию минуту! И нужен в совершенно диком, так сказать, первозданном, состоянии. Если бы сюжет сам, как ягненочек, явился в ателье и сказал: «Вот он я!» — его бы, наверное, изгнали с бранью и криками:
— Чего вам тут надо?!
— Ничего, стану кричать по-немецки.
— Ну, что ж. Можешь добавлять немного русской брани. Только обязательно с берлинским акцентом.
В чем не знаешь толку, чего не понимаешь, то брани: это общее правило посредственности.
В России приняты на вооружение ракеты, оснащенные боеголовками с нецензурной бранью в адрес противник
Если я всё правильно подсчитал, в чем я не сомневаюсь, то это значит, что мы в самом начале. Я сдвинул временные рамки на пару часов. Это бы ничего не решило в любой другой день, но это Рождество 1914 года, в которое случилось чудо человечества. Рождественское перемирие. Такого никогда больше не было. Нигде, ни на одной войне. Лишь однажды, давным-давно, в один рождественский день, все просто сложили оружие и начали петь. Все остановились и совершили добро. <…> Ничего страшного, если на поле брани станет меньше на пару погибших.

Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии; она просто дурно воспитана. Она еще не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь места.
На поле брани он пришёл, подчиняясь болезненному желанию собственными глазами увидеть последствия сражения. Но там царили лишь смерть и разложение, порождая в душе тревогу и ужас, а не ощущение славной победы, которое, как это представлял себе Эрагон, вспоминая старинные героические песни и легенды, он должен был бы испытывать.
Жажду смерти нередко можно объяснить сильнейшим импульсом вернуться туда, откуда мы пришли. Самоубийцами становятся чаще всего те, кто не смог изжить травму рождения. Вот почему умирающий на поле брани зовет: «мама» — в этом желание обратного рождения, нового обретения рая, из которого нас изгнали.
— Иногда я ругаюсь матом. Так же, как все.
— Да ну? Я почему-то никогда не слышала. Ты что — ругаешься поздно вечером, когда все спать разойдутся?
— Я ругаюсь только там, где это уместно.
— Саймон, весь смысл брани в том, что она нигде не уместна!
Брань и хула людская — всё ничтожно,
Пройдите мимо, помните, друзья,
Что ни хулой, ни бранью невозможно
То осквернить, что осквернить нельзя.

Теперь, утратив жажду брани, Престал платить безумству дани, И, верным счастием богат, Я все забыл, товарищ милый, Все, даже прелести Людмилы»
Почему же шли на смерть, хотя ясно понимали ее неизбежность? Почему же шли, хотя и не хотели? Шли, не просто страшась смерти, а охваченные ужасом, и все же шли! Раздумывать и обосновывать свои поступки тогда не приходилось. Было не до того. Просто вставали и шли, потому что НАДО!
Вежливо выслушивали напутствие политруков — малограмотное переложение дубовых и пустых газетных передовиц — и шли. Вовсе не воодушевленные какими-то идеями или лозунгами, а потому, что НАДО. Так, видимо, ходили умирать и предки наши на Куликовом поле либо под Бородином. Вряд ли размышляли они об исторических перспективах и величии нашего народа… Выйдя на нейтральную полосу, вовсе не кричали «За Родину! За Сталина!», как пишут в романах. Над передовой слышен был хриплый вой и густая матерная брань, пока пули и осколки не затыкали орущие глотки. До Сталина ли было, когда смерть рядом. Откуда же сейчас, в шестидесятые годы, опять возник миф, что победили только благодаря Сталину, под знаменем Сталина? У меня на этот счет нет сомнений. Те, кто победил, либо полегли на поле боя, либо спились, подавленные послевоенными тяготами. Ведь не только война, но и восстановление страны прошло за их счет. Те же из них, кто еще жив, молчат, сломленные.
Остались у власти и сохранили силы другие — те, кто загонял людей в лагеря, те, кто гнал в бессмысленные кровавые атаки на войне. Они действовали именем Сталина, они и сейчас кричат об этом. Не было на передовой: «За Сталина!». Комиссары пытались вбить это в наши головы, но в атаках комиссаров не было. Все это накипь…»
Вежливо выслушивали напутствие политруков — малограмотное переложение дубовых и пустых газетных передовиц — и шли. Вовсе не воодушевленные какими-то идеями или лозунгами, а потому, что НАДО. Так, видимо, ходили умирать и предки наши на Куликовом поле либо под Бородином. Вряд ли размышляли они об исторических перспективах и величии нашего народа… Выйдя на нейтральную полосу, вовсе не кричали «За Родину! За Сталина!», как пишут в романах. Над передовой слышен был хриплый вой и густая матерная брань, пока пули и осколки не затыкали орущие глотки. До Сталина ли было, когда смерть рядом. Откуда же сейчас, в шестидесятые годы, опять возник миф, что победили только благодаря Сталину, под знаменем Сталина? У меня на этот счет нет сомнений. Те, кто победил, либо полегли на поле боя, либо спились, подавленные послевоенными тяготами. Ведь не только война, но и восстановление страны прошло за их счет. Те же из них, кто еще жив, молчат, сломленные.
Остались у власти и сохранили силы другие — те, кто загонял людей в лагеря, те, кто гнал в бессмысленные кровавые атаки на войне. Они действовали именем Сталина, они и сейчас кричат об этом. Не было на передовой: «За Сталина!». Комиссары пытались вбить это в наши головы, но в атаках комиссаров не было. Все это накипь…»
Долину брани объезжая, Он видит множество мечей, Но все легки да слишком малы, А князь красавец был не вялый, Не то, что витязь наших дней
Хозяйка сказала, что хочет фейхоа. Хахаль куда-то побежал, а мы с Халком пошли записывать это слово в не до конца разгаданный сканворд. Значит, прав был Кот, а я ему подзатыльников навешал за нецензурную брань. Неудобно теперь, надо бы извиниться…
Я старался сделать так, чтобы каждый из моих персонажей был похож на человека. Настоящего, живого. В моем первом романе семь героев, от лица которых ведется повествование, в каждом следующем добавлялось еще несколько. Вы видите мир их глазами, а я пробираюсь в голову каждого, чтобы сжиться с ним. Я хотел, чтобы они были разными. Одни благородны и справедливы, другие эгоистичны. Одни умны, другие не очень или даже глупы. Однако все они люди. Я всегда мечтал создать великих персонажей, а они не бывают черными или белыми. В фэнтези довольно часто описывается столкновение добра со злом, и иногда это работает. Однако я в это не верю. Не верю в то, что на поле брани встречаются хорошие и плохие — и хорошие в белом, а злодеи в черном, а еще они уродливые и питаются человеческой плотью…

Каждый умирает в одиночку. Будь ты королем на поле брани или жалким крестьянином, лежащим на смертном ложе в кругу своей семьи, никто не последует за тобой в вечную пустоту.
Я не мог знать заранее, что ты тоже ненормальная,
Ведь наделяли чем-то новым нас эти свидания.
Ты аномалия, оттого и не любовь, а мания
У нас с тобою была, вперемешку с криком и бранью.
Ведь наделяли чем-то новым нас эти свидания.
Ты аномалия, оттого и не любовь, а мания
У нас с тобою была, вперемешку с криком и бранью.
Нет более неприятного, жалкого и смешного зрелища в зале суда, чем любовная парочка преступников, набрасывающихся друг на друга с обвинениями, протестами и бранью, не считаясь ни с чем, лишь бы спасти собственную жизнь ценою жизни своего недавнего возлюбленного или возлюбленной.
В присутствии слепого не брани слепое животное.
 Цитаты про красный цвет
Цитаты про красный цвет Цитаты про льва
Цитаты про льва Цитаты про Санкт-Петербург
Цитаты про Санкт-Петербург Цитаты про осень
Цитаты про осень Цитаты про тело
Цитаты про тело Цитаты про кольцо
Цитаты про кольцо
Я знаю, меня ждет жалкий конец. Никто меня не будет хвалить, никто не будет уважать, я получу лишь брань. Люди будут отворачиваться от моих кошмарных останков, зажимать носы от вони. Может, пинком сбросят меня в канаву. Вот и все.
Те, кто погибает на поле брани, в некотором смысле счастливчики. Навсегда молодые. Навсегда прославленные.
Капитал… избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому. Доказательство: контрабанда и торговля рабами.Capital is said … to fly turbulence and strife, and to be timid, which is very true; but this is very incompletely stating the question. Capital eschews no profit, or very small profit, just as Nature was formerly said to abhor a vacuum. With adequate profit, capital is very bold. A certain 10 per cent. will ensure its employment anywhere; 20 per cent. certain will produce eagerness; 50 per cent., positive audacity; 100 per cent. will make it ready to trample on all human laws; 300 per cent., and there is not a crime at which it will scruple, nor a risk it will not run, even to the chance of its owner being hanged. If turbulence and strife will bring a profit, it will freely encourage both. Smuggling and the slave-trade have amply proved all that is here stated.
Ты не сердитый дух в нашей квартире, не захлопнувшаяся дверь, не эхо в переходе, это просто я по тебе соскучился. Ты умерла, тебя нет. Тебе все равно, где тебя закопают. Ты не можешь ничего запретить мне, не можешь ни за что меня отругать. Мне одиноко от этой свободы, мне тоскливо без твоей брани. Но все, что ты можешь сделать мне – не разговаривать со мной.
Я уже не раз замечал, что брань действует как мгновенная анестезия. Боль не то чтобы проходит совсем, но становится вполне терпимой.
На поле брани якобы наиболее опасны идеальный военный гений и абсолютный идиот, с перевесом на стороне идиота, поскольку его поступки уж совершенно невозможно предвидеть.
Смерть павших на поле брани в молодости ощущается тем болезненнее, чем дольше живут их ровесники. Владислав Гжегорчик
Все дети в известном возрасте начинают ругаться, а когда поймут, что бранью никого не удивишь, это проходит само собой.
Всякий родитель должен воздерживаться при детях своих не только от дел, но и от слов, клонящихся к неправосудию и насильству, как то: брани, клятвы, драк, всякой жестокости и тому подобных поступков, и не дозволять и тем, которые окружают детей его, давать им такие дурные примеры.
Возможно, для кого-то мат является нецензурной бранью, но для шахматистов — это хлеб насущный.
Не брани меня, подруга,
Отвлекись от суеты,
Все итак едят друг друга,
А меня ещё и ты.
Отвлекись от суеты,
Все итак едят друг друга,
А меня ещё и ты.

Наилучшие наставники — это люди, рядом с которыми выходишь на поле брани.
Любой дурак может быть храбрым на поле брани, потому что, если не будешь храбрым, тебя убьют.
– Для того чтобы развязать войну, достаточно желания одной из сторон, о достойный Целитель, – отвечала Эовин. – А от меча могут погибнуть и те, кто никогда не брал его в руки. Неужели ты предпочёл бы, чтобы гондорцы день и ночь собирали травы, пока Чёрный Властелин собирает армии? Да и телесное исцеление не всегда идёт на пользу, а гибель на поле брани – не всегда зло, даже если герой погибает в муках.
Трус, бегущий с поля брани, бросает всё, храбрец остается при своем, а герой успевает подобрать за трусом!
Случалось, в такой вот вечер, какие ему теперь вспоминаются, она вернется без сил с работы (она ходила по домам убирать) и не застанет ни души. Старуха ушла за покупками, дети еще в школе. Тогда она опустится на стул и смутным взглядом растерянно уставится на трещину в полу. Вокруг нее сгущается ночь, и во тьме немота ее полна безысходного уныния. В такие минуты, случись мальчику войти, он едва различит угловатый силуэт, худые, костлявые плечи и застынет на месте: ему страшно. Он уже начинает многое чувствовать. Он только-только начал сознавать, что существует. Но ему трудно плакать перед лицом этой немоты бессловесного животного. Он жалеет мать — значит ли это любить? Она никогда его не ласкала, она этого не умеет. И вот долгие минуты он стоит и смотрит на нее. Он чувствует себя посторонним и оттого понимает её муку. Она его не слышит: она туга на ухо. Сейчас вернётся старуха, и жизнь пойдёт своим чередом: будет круг света от керосиновой лампы, клеенка на столе, крики, брань. А пока — тишина, значит, время остановилось, длится нескончаемое мгновение. Мальчику кажется — что-то встрепенулось внутри, какое-то смутное чувство, наверно, это любовь к матери. Что ж, так и надо, ведь, в конце концов, она ему мать.
Вы выходите из машины, тот, с кем вы столкнулись, тоже выходит, вы встречаетесь там, где столкнулись ваши машины, вы глядите на них, вы качаете головой. Иногда — хотя, если честно, достаточно часто — эта стадия общения сопровождается забористой нецензурной бранью, каждый винит другого (зачастую не разбираясь, кто действительно виноват), каждый делает вывод об умении другого водить машину, каждый вопит, что дело должно пойти в суд. Но Ральфу всегда казалось, что на самом деле все эти люди хотят сказать только одно: Слушай, дурак, ты напугал меня до смерти.
Киносюжет своеобразен тем, что за ним всегда бывает страшная гонка. Сюжет этот никогда не рождается, скажем, в такой обстановке: сидя у камина, один собеседник говорит другому:
— Знаете что? Если вам когда-нибудь придет в голову хороший сюжет для фильма, напишите, и мы потолкуем об этом.
Это не соответствовало бы специфике кино. Специфика кино повелевает гоняться за киносюжетом сломя голову. Сюжет нужен завтра. Он нужен сию минуту! И нужен в совершенно диком, так сказать, первозданном, состоянии. Если бы сюжет сам, как ягненочек, явился в ателье и сказал: «Вот он я!» — его бы, наверное, изгнали с бранью и криками:
— Чего вам тут надо?!
— Знаете что? Если вам когда-нибудь придет в голову хороший сюжет для фильма, напишите, и мы потолкуем об этом.
Это не соответствовало бы специфике кино. Специфика кино повелевает гоняться за киносюжетом сломя голову. Сюжет нужен завтра. Он нужен сию минуту! И нужен в совершенно диком, так сказать, первозданном, состоянии. Если бы сюжет сам, как ягненочек, явился в ателье и сказал: «Вот он я!» — его бы, наверное, изгнали с бранью и криками:
— Чего вам тут надо?!
— Ничего, стану кричать по-немецки.
— Ну, что ж. Можешь добавлять немного русской брани. Только обязательно с берлинским акцентом.
— Ну, что ж. Можешь добавлять немного русской брани. Только обязательно с берлинским акцентом.
В чем не знаешь толку, чего не понимаешь, то брани: это общее правило посредственности.
В России приняты на вооружение ракеты, оснащенные боеголовками с нецензурной бранью в адрес противник
Если я всё правильно подсчитал, в чем я не сомневаюсь, то это значит, что мы в самом начале. Я сдвинул временные рамки на пару часов. Это бы ничего не решило в любой другой день, но это Рождество 1914 года, в которое случилось чудо человечества. Рождественское перемирие. Такого никогда больше не было. Нигде, ни на одной войне. Лишь однажды, давным-давно, в один рождественский день, все просто сложили оружие и начали петь. Все остановились и совершили добро. <…> Ничего страшного, если на поле брани станет меньше на пару погибших.

Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии; она просто дурно воспитана. Она еще не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь места.
На поле брани он пришёл, подчиняясь болезненному желанию собственными глазами увидеть последствия сражения. Но там царили лишь смерть и разложение, порождая в душе тревогу и ужас, а не ощущение славной победы, которое, как это представлял себе Эрагон, вспоминая старинные героические песни и легенды, он должен был бы испытывать.
Жажду смерти нередко можно объяснить сильнейшим импульсом вернуться туда, откуда мы пришли. Самоубийцами становятся чаще всего те, кто не смог изжить травму рождения. Вот почему умирающий на поле брани зовет: «мама» — в этом желание обратного рождения, нового обретения рая, из которого нас изгнали.
— Иногда я ругаюсь матом. Так же, как все.
— Да ну? Я почему-то никогда не слышала. Ты что — ругаешься поздно вечером, когда все спать разойдутся?
— Я ругаюсь только там, где это уместно.
— Саймон, весь смысл брани в том, что она нигде не уместна!
— Да ну? Я почему-то никогда не слышала. Ты что — ругаешься поздно вечером, когда все спать разойдутся?
— Я ругаюсь только там, где это уместно.
— Саймон, весь смысл брани в том, что она нигде не уместна!
Брань и хула людская — всё ничтожно,
Пройдите мимо, помните, друзья,
Что ни хулой, ни бранью невозможно
То осквернить, что осквернить нельзя.
Пройдите мимо, помните, друзья,
Что ни хулой, ни бранью невозможно
То осквернить, что осквернить нельзя.