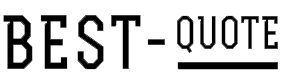Цитаты из книги Джорджа Оруэлла «1984»
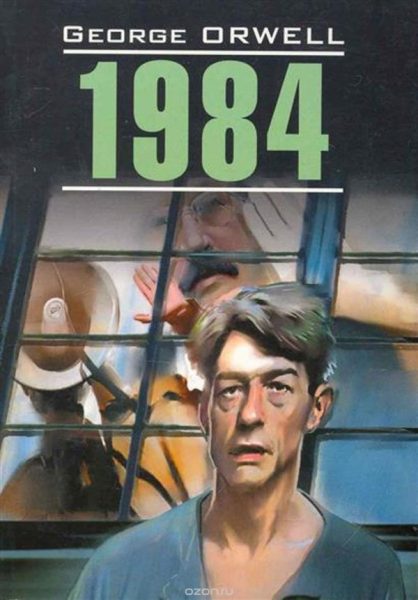
Если хочешь сохранить секрет, надо скрывать его и от себя.
Если ты в меньшинстве – и даже в единственном числе, – это не значит, что ты безумен. Есть правда и есть неправда, и, если ты держишься правды, пусть наперекор всему свету, ты не безумен.
Свобода – это возможность сказать, что дважды два – четыре.
Если дозволено это, все остальное отсюда следует.
Умный тот, кто нарушает правила и всё-таки остаётся жив.
Скрывать чувства, владеть лицом, делать то же, что другие — всё это стало инстинктом.
Я понимаю КАК; не понимаю ЗАЧЕМ.
Признание — не предательство. Что ты сказал или не сказал — не важно, важно только чувство. Если меня заставят разлюбить тебя — вот будет настоящее предательство.
Человек, быть может, не столько ждет любви, сколько понимания.
Постепенно становясь сильнейшим из побуждений, страх ломает нравственный хребет человека и заставляет его глушить в себе все чувства, кроме самосохранения.
 Цитаты про обман
Цитаты про обман Цитаты про решения
Цитаты про решения Цитаты про семью
Цитаты про семью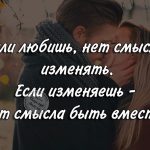 Цитаты про измену
Цитаты про измену Цитаты про футбол
Цитаты про футбол Цитаты про тигра
Цитаты про тигра
Привычка не показывать своих чувств въелась настолько, что стала инстинктом.

Он был один. Прошлое умерло, будущее нельзя вообразить. Есть ли какая-нибудь уверенность, что хоть один человек из живых — на его стороне? И как узнать, что владычество партии не будет вечным? И ответом встали перед его глазами три лозунга на белом фасаде министерства правды:
ВОЙНА — ЭТО МИР
СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ — СИЛА
Он вынул из кармана двадцатипятицентовую монету. И здесь мелкими четкими буквами те же лозунги, а на оборотной стороне — голова Старшего Брата. Даже с монеты преследовал тебя его взгляд. На монетах, на марках, на книжных обложках, на знаменах, плакатах, на сигаретных пачках — повсюду. Всюду тебя преследуют эти глаза и обволакивает голос. Во сне и наяву, на работе и за едой, на улице и дома, в ванной, в постели — нет спасения. Нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе.
Под развесистым каштаном
Продали средь бела дня —
Я тебя, а ты меня…
Массы никогда не восстают сами по себе и никогда не восстают только потому, что они угнетены. Больше того, они даже не сознают, что угнетены, пока им не дали возможности сравнивать.
— Сколько я показываю пальцев, Уинстон?
— Четыре.
— А если партия говорит, что их не четыре, а пять, — тогда сколько?
Когда любишь кого-то, ты его любишь, и, если ничего больше не можешь ему дать, ты все-таки даешь ему любовь.
Ни за что, ни за что на свете ты не захочешь, чтобы усилилась боль. От боли хочешь только одного: чтобы она кончилась. Нет ничего хуже в жизни, чем физическая боль. Перед лицом боли нет героев, нет героев, снова и снова повторял он про себя и корчился на полу, держась за отбитый левый локоть.
Кто контролирует прошлое — контролирует будущее, кто контролирует настоящее — контролирует прошлое.
В каком-то смысле книга не сообщила ему ничего нового – но в этом-то и заключалась ее прелесть. Она говорила то, что он сам бы мог сказать, если бы сумел привести в порядок отрывочные мысли. Она была произведением ума, похожего на его ум, только гораздо более сильного, более систематического и не изъязвленного страхом. Лучшие книги, понял он, говорят тебе то, что ты уже сам знаешь.
Власть – не средство; она – цель. Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию; революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий – репрессии. Цель пытки – пытка. Цель власти – власть.

В массе своей люди слабы и трусливы, не готовы к свободе и боятся правды, а значит, надо, чтобы кто-то сильный управлял ими и обманывал их.
Боли самой по себе, — начал он, — иногда недостаточно. Бывают случаи, когда индивид сопротивляется боли до смертного мига. Но для каждого человека есть что-то непереносимое, немыслимое. Смелость и трусость здесь ни при чем. Если падаешь с высоты, схватиться за веревку — не трусость. Если вынырнул из глубины, вдохнуть воздух — не трусость. Это просто инстинкт, и его нельзя ослушаться.
… Чем меньше выбор слов, тем меньше искушение задуматься.
Меня привлекает ваш склад ума. Мы с вами похоже мыслим, с той только разницей, что вы безумны.
Ересь из ересей — здравый смысл. И ужасно не то, что тебя убьют за противоположное мнение, а то, что они, может быть, правы. В самом деле, откуда мы знаем, что дважды два — четыре? Или что существует сила тяжести? Или что прошлое нельзя изменить? Если и прошлое и внешний мир существуют только в сознании, а сознанием можно управлять — тогда что?
Прежние цивилизации утверждали, что они основаны на любви и справедливости. Наша основана на ненависти. В нашем мире не будет иных чувств, кроме страха, гнева, торжества и самоуничтожения. Все остальные мы истребим — все.
Ежедневно и чуть ли не ежеминутно прошлое подгонялось под настоящее.

Они никогда не взбунтуются, пока не станут сознательными, а сознательными не станут, пока не взбунтуются.
— … Если меня заставят разлюбить тебя — вот будет настоящее предательство.
Она задумалась.
— Этого они не могут, — сказала она наконец. — Этого как раз и не могут. Сказать что угодно — что угодно — они тебя заставят, но поверить в это не заставят. Они не могут в тебя влезть.
— Да, — ответил он уже не так безнадёжно, — да, это верно. Влезть в тебя они не могут. Если ты чувствуешь, что оставаться человеком стоит — пусть это ничего не даёт, — ты всё равно их победил.
Когда война становится бесконечной, она перестает быть опасной.
Большой брат смотрит на тебя.
Следующее поколение, милый, меня не интересует. Меня интересуем мы.
Здания принадлежали четырем министерствам, на которые разделялся весь правительственный аппарат. Министерство Правды заведовало всей информацией, руководило развлечениями, образованием и искусством. Министерство Мира занималось войной. Министерство Любви поддерживало закон и порядок. А Министерство Изобилия отвечало за экономику.
Он встал и тяжело двинулся к двери. Взявшись за дверную ручку, Уинстон увидел, что оставил дневник на столе открытым. Слова «ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА!» были написаны так крупно, что казалось, их можно прочесть с другого конца комнаты. Как это глупо, опрометчиво! Но даже страх не смог заставить его закрыть записную книжку и испачкать кремовую бумагу непросохшими чернилами.

Некоторое время он сидел, тупо уставившись в бумагу. Монитор передавал теперь громкую военную музыку. Смешно, но Уинстон, казалось, не только утратил способность выражать свои мысли, но и начисто позабыл, что же ему хотелось доверить дневнику. Несколько недель он готовился к этой минуте, и ему ни разу не пришло в голову, что потребуется не только мужество и смелость. Писать будет нетрудно, полагал он. Надо просто перенести на бумагу бесконечный монолог, который звучал в его голове долгие-долгие годы. Но теперь вдруг монолог исчез. Вдобавок страшно зачесалась варикозная язва, которую он не решался трогать, потому что после этого она всегда воспалялась. Секунды бежали, а в голове не было ничего, кроме лежавшей перед ним чистой страницы, зуда в лодыжке, рева музыки и легкого опьянения от выпитого джина.
Если бы он мог пошевелиться, он протянул бы руку и тронул бы за руку О’Брайена. Никогда еще он не любил его так сильно, как сейчас, — и не только за то, что О’Брайен прекратил боль. Вернулось прежнее чувство: неважно, друг О’Брайен или враг. О’Брайен — тот, с кем можно разговаривать. Может быть, человек не так нуждается в любви, как в понимании. О’Брайен пытал его и почти свел с ума, а вскоре, несомненно, отправит его на смерть. Это не имело значения. В каком-то смысле их соединяло нечто большее, чем дружба.
Цель пыток — пытки. Цель насилия — насилие. Цель власти — власть.
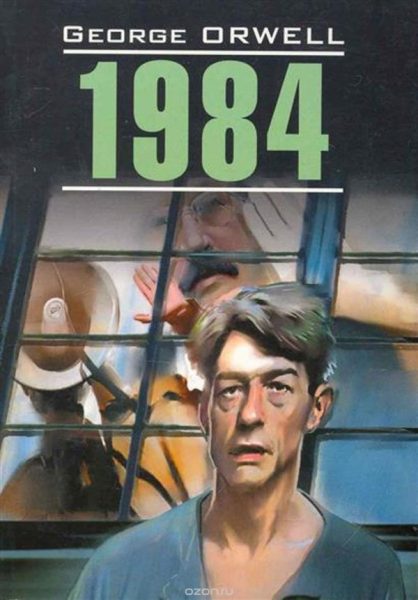
Если хочешь сохранить секрет, надо скрывать его и от себя.
Если ты в меньшинстве – и даже в единственном числе, – это не значит, что ты безумен. Есть правда и есть неправда, и, если ты держишься правды, пусть наперекор всему свету, ты не безумен.
Свобода – это возможность сказать, что дважды два – четыре.
Если дозволено это, все остальное отсюда следует.
Умный тот, кто нарушает правила и всё-таки остаётся жив.
Скрывать чувства, владеть лицом, делать то же, что другие — всё это стало инстинктом.
Я понимаю КАК; не понимаю ЗАЧЕМ.
Признание — не предательство. Что ты сказал или не сказал — не важно, важно только чувство. Если меня заставят разлюбить тебя — вот будет настоящее предательство.
Человек, быть может, не столько ждет любви, сколько понимания.
Постепенно становясь сильнейшим из побуждений, страх ломает нравственный хребет человека и заставляет его глушить в себе все чувства, кроме самосохранения.
 Цитаты про обман
Цитаты про обман Цитаты про решения
Цитаты про решения Цитаты про семью
Цитаты про семью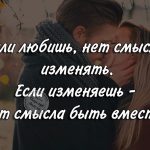 Цитаты про измену
Цитаты про измену Цитаты про футбол
Цитаты про футбол Цитаты про тигра
Цитаты про тигра
Привычка не показывать своих чувств въелась настолько, что стала инстинктом.

Он был один. Прошлое умерло, будущее нельзя вообразить. Есть ли какая-нибудь уверенность, что хоть один человек из живых — на его стороне? И как узнать, что владычество партии не будет вечным? И ответом встали перед его глазами три лозунга на белом фасаде министерства правды:
ВОЙНА — ЭТО МИР
СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ — СИЛА
Он вынул из кармана двадцатипятицентовую монету. И здесь мелкими четкими буквами те же лозунги, а на оборотной стороне — голова Старшего Брата. Даже с монеты преследовал тебя его взгляд. На монетах, на марках, на книжных обложках, на знаменах, плакатах, на сигаретных пачках — повсюду. Всюду тебя преследуют эти глаза и обволакивает голос. Во сне и наяву, на работе и за едой, на улице и дома, в ванной, в постели — нет спасения. Нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе.
Под развесистым каштаном
Продали средь бела дня —
Я тебя, а ты меня…
Массы никогда не восстают сами по себе и никогда не восстают только потому, что они угнетены. Больше того, они даже не сознают, что угнетены, пока им не дали возможности сравнивать.
— Сколько я показываю пальцев, Уинстон?
— Четыре.
— А если партия говорит, что их не четыре, а пять, — тогда сколько?
Когда любишь кого-то, ты его любишь, и, если ничего больше не можешь ему дать, ты все-таки даешь ему любовь.
Ни за что, ни за что на свете ты не захочешь, чтобы усилилась боль. От боли хочешь только одного: чтобы она кончилась. Нет ничего хуже в жизни, чем физическая боль. Перед лицом боли нет героев, нет героев, снова и снова повторял он про себя и корчился на полу, держась за отбитый левый локоть.
Кто контролирует прошлое — контролирует будущее, кто контролирует настоящее — контролирует прошлое.
В каком-то смысле книга не сообщила ему ничего нового – но в этом-то и заключалась ее прелесть. Она говорила то, что он сам бы мог сказать, если бы сумел привести в порядок отрывочные мысли. Она была произведением ума, похожего на его ум, только гораздо более сильного, более систематического и не изъязвленного страхом. Лучшие книги, понял он, говорят тебе то, что ты уже сам знаешь.
Власть – не средство; она – цель. Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию; революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий – репрессии. Цель пытки – пытка. Цель власти – власть.

В массе своей люди слабы и трусливы, не готовы к свободе и боятся правды, а значит, надо, чтобы кто-то сильный управлял ими и обманывал их.
Боли самой по себе, — начал он, — иногда недостаточно. Бывают случаи, когда индивид сопротивляется боли до смертного мига. Но для каждого человека есть что-то непереносимое, немыслимое. Смелость и трусость здесь ни при чем. Если падаешь с высоты, схватиться за веревку — не трусость. Если вынырнул из глубины, вдохнуть воздух — не трусость. Это просто инстинкт, и его нельзя ослушаться.
… Чем меньше выбор слов, тем меньше искушение задуматься.
Меня привлекает ваш склад ума. Мы с вами похоже мыслим, с той только разницей, что вы безумны.
Ересь из ересей — здравый смысл. И ужасно не то, что тебя убьют за противоположное мнение, а то, что они, может быть, правы. В самом деле, откуда мы знаем, что дважды два — четыре? Или что существует сила тяжести? Или что прошлое нельзя изменить? Если и прошлое и внешний мир существуют только в сознании, а сознанием можно управлять — тогда что?
Прежние цивилизации утверждали, что они основаны на любви и справедливости. Наша основана на ненависти. В нашем мире не будет иных чувств, кроме страха, гнева, торжества и самоуничтожения. Все остальные мы истребим — все.
Ежедневно и чуть ли не ежеминутно прошлое подгонялось под настоящее.

Они никогда не взбунтуются, пока не станут сознательными, а сознательными не станут, пока не взбунтуются.
— … Если меня заставят разлюбить тебя — вот будет настоящее предательство.
Она задумалась.
— Этого они не могут, — сказала она наконец. — Этого как раз и не могут. Сказать что угодно — что угодно — они тебя заставят, но поверить в это не заставят. Они не могут в тебя влезть.
— Да, — ответил он уже не так безнадёжно, — да, это верно. Влезть в тебя они не могут. Если ты чувствуешь, что оставаться человеком стоит — пусть это ничего не даёт, — ты всё равно их победил.
Когда война становится бесконечной, она перестает быть опасной.
Большой брат смотрит на тебя.
Следующее поколение, милый, меня не интересует. Меня интересуем мы.
Здания принадлежали четырем министерствам, на которые разделялся весь правительственный аппарат. Министерство Правды заведовало всей информацией, руководило развлечениями, образованием и искусством. Министерство Мира занималось войной. Министерство Любви поддерживало закон и порядок. А Министерство Изобилия отвечало за экономику.
Он встал и тяжело двинулся к двери. Взявшись за дверную ручку, Уинстон увидел, что оставил дневник на столе открытым. Слова «ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА!» были написаны так крупно, что казалось, их можно прочесть с другого конца комнаты. Как это глупо, опрометчиво! Но даже страх не смог заставить его закрыть записную книжку и испачкать кремовую бумагу непросохшими чернилами.

Некоторое время он сидел, тупо уставившись в бумагу. Монитор передавал теперь громкую военную музыку. Смешно, но Уинстон, казалось, не только утратил способность выражать свои мысли, но и начисто позабыл, что же ему хотелось доверить дневнику. Несколько недель он готовился к этой минуте, и ему ни разу не пришло в голову, что потребуется не только мужество и смелость. Писать будет нетрудно, полагал он. Надо просто перенести на бумагу бесконечный монолог, который звучал в его голове долгие-долгие годы. Но теперь вдруг монолог исчез. Вдобавок страшно зачесалась варикозная язва, которую он не решался трогать, потому что после этого она всегда воспалялась. Секунды бежали, а в голове не было ничего, кроме лежавшей перед ним чистой страницы, зуда в лодыжке, рева музыки и легкого опьянения от выпитого джина.
Если бы он мог пошевелиться, он протянул бы руку и тронул бы за руку О’Брайена. Никогда еще он не любил его так сильно, как сейчас, — и не только за то, что О’Брайен прекратил боль. Вернулось прежнее чувство: неважно, друг О’Брайен или враг. О’Брайен — тот, с кем можно разговаривать. Может быть, человек не так нуждается в любви, как в понимании. О’Брайен пытал его и почти свел с ума, а вскоре, несомненно, отправит его на смерть. Это не имело значения. В каком-то смысле их соединяло нечто большее, чем дружба.
Цель пыток — пытки. Цель насилия — насилие. Цель власти — власть.